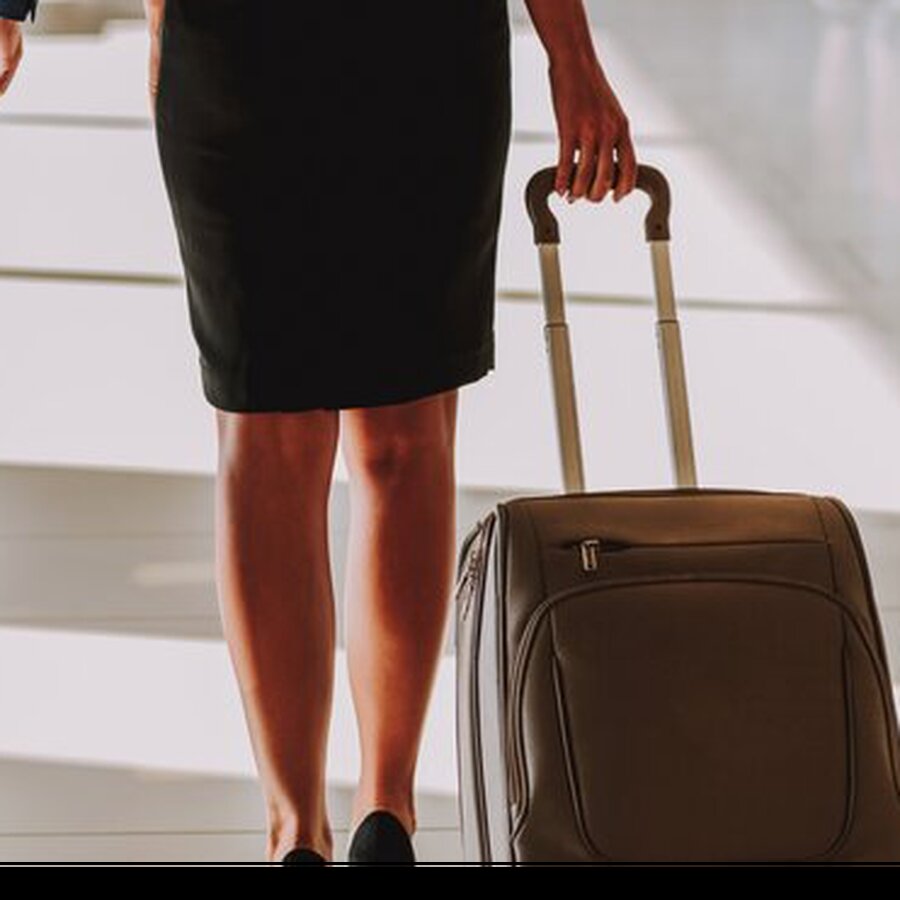В "Гоголь-центре" прошла лекция поэта, прозаика, мемуариста и переводчика Анатолия Наймана "Жизнь без рецепта", в ходе которой он рассказал о своем отношении к русской классике, встречах с Анной Ахматовой, своем понимании патриотизма, а также ответил на целый ряд литературных и окололитературных вопросов.
- Когда мы разговаривали первый раз, вы говорили, что жизнь каждого человека устроена таким образом, что в ней всегда есть "золотой век", примерно лет семь. У большинства людей это выпадает на детство, некоторым повезло больше. Что вы в своей жизни считаете "золотым веком"?
Анатолий Найман: Не то, что можно выдавать людям за образец. Это, скорее, равновесие сохраняемой естественности человека и безответственности. Потом начинается другой период, который может продолжаться очень долго. Условно он продолжается с 19 до 26 лет, когда ты можешь наделать всяких худых вещей, но это необходимый период понимания, после которого уже нет такого огня и будущего понимания происходящего.
- То есть, ваш личный "золотой век" – с 19 до 26?
А.Н.: Примерно так. Вот у Пушкина более обозримая биография. Один Пушкин был до 28 года, с 28 до 37 – это уже Пушкин, завершающий свою жизнь. Когда это начинаешь определять, звучит скучно, а вот когда живешь – здорово.
- Вот новый способ доставки вопросов, через facebook: Добрый вечер, не могли бы вы спросить Наймана об отношении Ахматовой к Высоцкому? Уж очень не верится, что она пела Бродскому блатные песни. Спасибо, сам попасть на встречу не смог.
А.Н.: Да нет, вряд ли это возможно. Она и не знала таких песен. Вот Окуджаву она знала, и то известно, что Окуджава будучи в Ленинграде хотел видеть Ахматову, но что-то этому помешало. Внучка Пунина, третьего мужа Ахматовой, считала, что это она его не пригласила. Я вообще за параллельную историю человечества и литературы. Это не значит, что я бы возмутился, что как она могла петь такие песни! Просто я знал ее довольно близко, мы жили рядом, и переводческая работа была совместная – не знала она таких песен, не обсуждала подобного никогда.
- Вопрос в письменном виде, редкость: «Я думаю, душа за время жизни приобретает смертные черты», это, разумеется, из Горбунова и Горчакова. Что вы думаете об этих строчках, их смысле, и согласны ли с ними? И еще вопрос от меня: Сложно ли быть интерпретатором, рассказчиком?
Ссылки по теме
- Игорь Толстунов: в России очень низкий уровень кинопоказа
- Екатерина Гениева - о культуре, вере и великих спутниках
- Осознанное в бессознательном: Анатолий Найман - о литературе и жизни
А.Н.: Я, как говорится, за товарища не отвечаю, но строчки шикарные, запоминающиеся. Но надо помнить, что это реплика в диалоге. Поэтому это не истина, которую Бродский проповедует. Красивые строчки и хороши без всякого объяснения.
- Вы – блестящий рассказчик и мемуарист. Насколько сложно рассказывать истории, свидетелями которых было большое количество людей?
А.Н.: Единственный комплимент, который я слышал о моих воспоминаниях об Анне Ахматовой, который я принимаю, что в этих воспоминаниях почти нет воспоминаний мемуариста. Когда умерла Ахматова, то несколько человек младше Ахматовой лет на 10-15 сказали мне (а у меня была хорошая память, как говорила Ахматова «хищная память»): Вы обязательно запишите, это довольно быстро забывается. И я сделал промежуточные записки, которые потом были очень кстати, когда журнал "Новый мир" предложил мне написать на столетие Ахматовой воспоминания о ней. Я думаю, что мои воспоминания хороши тем, что там никакого Наймана нету, меня интересует в первую очередь Ахматова, и другие персонажи книги «Рассказы об Анне Ахматовой». Я не считаю, что с моей стороны эта книга – большое достижение, просто у меня была хорошая память, и я вовремя записал дословно какие-то разговоры. У этой книжки было 5 изданий, и она хороша именно тем, что «вспоминателя» в ней нет.
- Вот еще вопрос: Вел ли Найман когда-нибудь дневник или записки, и вообще, записывает ли он сейчас что с ним происходило или происходит?
А.Н.: Нет. Но был период, уже после смерти Ахматовой, когда я, как уважающий себя поэт и писатель, что-то записывать. Но из этого ничего хорошего не получилось. К этому надо иметь склонность. Те эпизоды, которые кажутся мне достойными внимания, имеют свое место в моей книге «Славный конец бесславных поколений». А с «Рассказами» получилось так: Лидия Корнеевна Чуковская сказала, что у меня есть письма Ахматовой (их хотели опубликовать в "Новом мире" к столетию), а я решил что-нибудь написать, потому что сами письма небольшие и требуют комментариев. Это было все, что я написал мемуарного. Книга была переведена на другие языки. Хотелось бы вспомнить один эпизод: Однажды летней ночью я долго не спал, заснул в 5 утра, а в 8 в дверь позвонил почтальон, вручил мне бандероль. Она была из Китая, и в ней были две книги моих «Рассказов» на китайском. Я, спросонья, снова рухнул в постель, и через 10 минут понял, что я с увлечением читаю эти иероглифы.
- Я уточню вопрос: Есть люди, которые ведут дневник для внутренней дисциплины, есть которые рассчитывают на будущие публикации, есть те, которые хотят сохранить какие-то воспоминания. Вы сейчас ведете дневник?
А.Н.: Нет, у меня был период, а потом я посмотрел, что это все туфта, ерунда. Мне показалось, что это вещь не совсем правильная, потому что прошло то время, когда писались стоящие дневники. Нормально без этого. Вот у нас были «ахматовские сироты»: Бобышев, Бродский, Найман и Рейн, и никто дневников не вел. Я думаю, это было веление времени. А писать вещи, о которых не нужно писать – я не подрядился открывать душу. К тому же, на любые воспоминания, бытовые, найдется человек, который скажет, что это было не так, он был не точен. Это вообще не имеет значения.
- Что скажете про блатные песни?
А.Н.: Я жил в Ленинграде. Мы были и есть знакомы с Евтушенко. Был на его концерте, и он читает: «Интеллигенция поет блатные песни. Блатные, а не песни Красной Пресне». И мне это очень не понравилось, захотелось уйти.
- У вас спрашивают: ваш любимый поэт?
А.Н.: Ну чего там долго думать: Пушкин, да? Нет, Лермонтов!
- Спросите Наймана, считает ли он, что литература должна воспитывать? Кого и как должна воспитывать литература, видимо, в школе.
А.Н.: Я учился в 222 ленинградской школе, бывшей Peterschule. Я учился в школе, идеологизированной до того, что все члены литературы были неподвижны, уже застыли. Первый раз я услышал в школе слово «Ахматова» в контексте, сто Блок был написан мелким шрифтом, и к нему в конце была «пришпилена» Ахматова. А преподавал нам литературу очень мне симпатичный человек. Он не имел никакого отношения к литературе, но он был мужик очень жесткий, без сантиментов. Когда он дошел до этого, он сказал: Ахматова была влюблена в Блока, он был очень красивый, а она совершенная уродка. Я, кстати, не против такого преподавания, это какая-то живость. Потом человек узнает больше, и сделает свои выводы. Однако, благодаря такому преподаванию, он может запомнить что-то, увлечься. Нормально, что существует параллельное литературоведение.
Вообще, отдельный рассказ, что такое советская школа. Вот наш преподаватель был фронтовик, я о нем с искренним уважением говорю, но он был малограмотным человеком. Мы когда дошли до Пушкина, в "Онегине" есть строчки про «комильфо». И один мальчик (а я учился в мужской школе, тогда еще раздельное обучение было) спросил, что это значит. И наш учитель, он был еще и директором, ответил, что это по-немецки, komme ilfaut, то есть, читает прям по-немецки, как в тексте. А ко мне у него было двойственное отношение. Я ему на перемене сказал, что это французский, и он меня за это конечно, не полюбил, но ему нравилось, что я знаю это. На меня большее впечатление в школе произвело то, что классом старше был другой учитель литературы. Он приносил книгу Маяковского, в которую вкладывал свои конспекты, которые в случае чего, мог предъявить. Однажды ученики заметили, что он держит книгу вверх ногами. В четвертый класс я пошел в первый послевоенный год. Со мной в классе учились два мальчика по 22 года, у одного было двое детей. Наша школа требовала другого отношения.
- Сейчас такого, конечно, нет. Вопрос был в том, что школа должна воспитывать патриотизм, как вы к этому относитесь, и может ли школьная программа по литературе, которая с тех пор изменилась, воспитать в человеке патриотизм, и должна ли?
А.Н.: Это все фигня, если говорить нормальным человеческим языком. Патриотизм можно воспитать легко. Вон, молодежи на Селигере сказали, вы будете патриотами, и они сказали: с удовольствием, да мы и так патриоты. Это не имеет отношения к живому человеку. И тот же наш учитель открывал нам вещи, которые в моей жизни сыграли положительную роль. И я даже думал написать книжку воспоминаний про это.
- Какое событие сделало вас королем из принца?
А.Н.: Никакое, я и принцем не был.
- Считаете ли вы, что есть литература XXI века? Если да, то кого к ней отнесете.
А.Н.: Я не имею права в этом участвовать, потому что у меня какие-то нахватанные представления об этом. Я почитываю на языках, но мы все знаем кто писатель, а кто нет.
- Ответьте людям, кого бы вы включили в программу по литературе XXI века.
А.Н.: Не того пригласили вы, вот что я вам скажу.
- Давайте последний вопрос, и покончим с нашим анонсом. Вы говорили, что человеку само провозглашаться поэтом неловко, но как бы сами себя анонсировали?
А.Н.: Вы знаете, наступает такой срок в жизни человека, когда тебе совершенно все равно, как ты выглядишь в глазах других. В 1963 году Ахматова пригласила к себе в гости меня и Бродского на
10-тилетие со дня смерти Сталина. И мы очень ударно выпивали крепкие напитки. Где-то в половине первого ночи мы с ним выкатываемся, Ахматова вышла нас провожать. Стоит величественно, но у нее красное лицо. А из другой комнаты выходит муж ее падчерицы, Ирины Пуниной. Он был актером, читал стихи. Но читал их странным образом, например, на пересменках в больнице читал Смелякова. И вот мы выпили коньяк, а ему охота поговорить, у Ахматовой он спросить боится. И вот он спрашивает что-то у меня, я передаю вопрос Бродскому, и тот только мог сказать ему (его звали Роман Альбертович), сфокусировав взгляд: Рамон, все в порядке! И все! Так что, в общем, все в порядке! Хочется сказать, если бы я знал, я бы говорил гораздо лучше!








 Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник
Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник